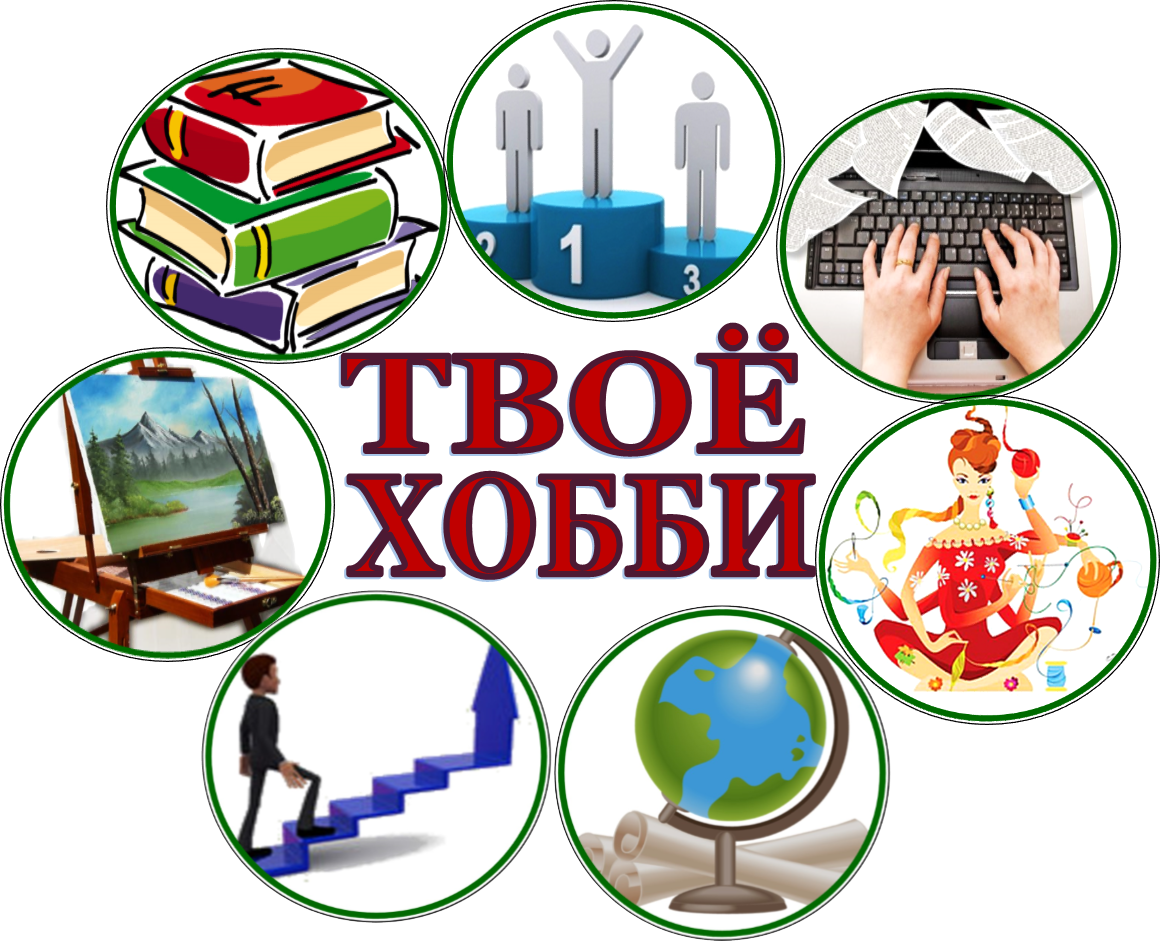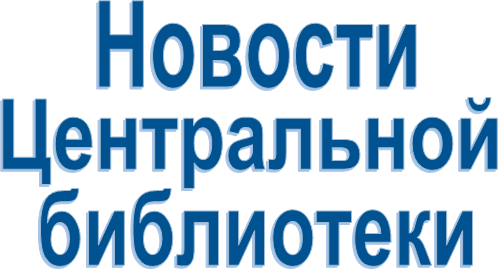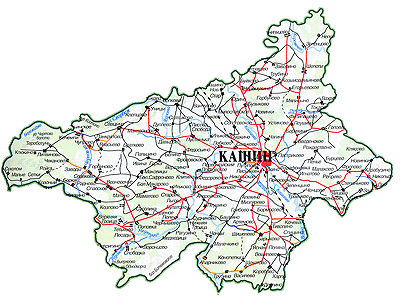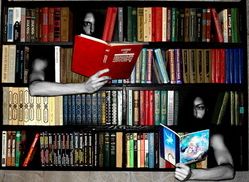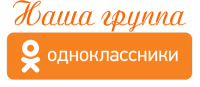Опыт экспериментальной археологии
на Языковской стоянке
в Кашинском районе
В нашем школьном музее хранятся отчёты о походах, совершённых учениками и преподавателями в разные годы. Меня заинтересовали материалы похода, состоявшегося летом 2006 года, к месту Языковской неолитической стоянки, которая находится недалеко от села Уницы.
Отчёт сохранился в двух видах: как фотоплакат и как электронная презентация с пояснениями. Мой интерес был вызван тем, что в экспозиции музея есть фрагменты неолитической керамики с раскопа у деревни Языково и сосуды, изготовленные по неолитическим технологиям участниками похода.
Любопытно было сравнить эти экспонаты. Сосуды, изготовленные ребятами – небольшого размера, потрескавшиеся, со следами обжига, толстыми стенками. Осколки же керамики, изготовленной 10 тысяч лет назад, – плотные, хорошо сохранившиеся; когда-то они были частью огромных сосудов с тонкими стенками. Я решила выяснить, в чём причина неудачи юных экспериментаторов- археологов, слепивших глиняные сосуды по технологиям каменного века.
Для этого мне понадобилось познакомиться с понятием «экспериментальная (живая) археология», изучить информацию о Языковской стоянке, раскопках и предметах материальной культуры, найденных на ней. Кроме того, надо было проштудировать информацию о технологии изготовления керамики в эпоху неолита, разыскать участников того похода, задать им вопросы и обобщить полученную информацию. Результатом стала эта исследовательская работа.
Языковская стоянка
Языковская стоянка – долговременное поселение эпохи неолита (вторая половина 5-го – начало 2-го тысячелетия до н.э.) близ деревни Языково Кашинского района. Содержит слои Верхневолжской, Льяловской и Волосовской культур.
Раскопки Языковской стоянки проводил Борис Сергеевич Жуков, член-корреспондент АН СССР, антрополог и археолог.
Открытие состоялось в 1926 году, когда шли работы по осушению Савцынского торфяника под Кашином. На глубине около двух метров под слоем торфа нашли многочисленные кости, обломки глиняных горшков, кремневые и костяные изделия.
Три сезона раскопок Б.С. Жукова дали богатый материал, опубликованный лишь в кратком виде. В начале 1930-х годов учёный был репрессирован и погиб в лагере, поэтому раскопки оказались свёрнутыми на десятилетия.
В 1970-е годы исследования Языковской стоянки продолжили музейные археологи Ю.Н. Урбан и И.Г. Портнягин. Они возглавляли музейные экспедиции. Эта группа исследователей называлась Кашинским отрядом Верхневолжской археологической Экспедиции Института археологии АН. СССР.
Они так описывали местность: современный коренной берег озера понижается, переходя в относительно сухое болото, которое прорезала идущая параллельно берегу дренажная канава. За ней невысокий суходол на болоте (древний остров близ истока Яхромы из озера). Нынешнее болото между коренным и суходолом в то доисторическое время представляло собой протоку шириной метров тридцать между островом и материком. Поселение занимало участок острова, обращённый к протоке, а при низком стоянии вод спускалось ближе к её руслу. Кроме того, отмель протоки могла использоваться и при относительно высокой воде: здесь, вероятно, были настилы, свайные постройки, заколы, служившие мостками на материковую сушу.
Эта стройная картина нарушилась ещё в древности мощным подъёмом воды и последующим заболачиванием. Нижний уровень культурных отложений, приуроченный к приплёсу, оказался перекрытым слоем торфа мощностью до двух и более метров.
Раскоп в этот сезон был не чета первому – около 300 квадратных метров. Невозможно даже просто перечислить все виды находок. Насыщенность ими культурного слоя в Языкове необычайно велика. Может быть, показательна будет такая статистика: позже, в 1985 году, на этой стоянке в шурфе площадью 4 квадратных метра при мощности отложения 60 - 65 сантиметров нашли почти 3000 изделий из камня, фрагментов керамики, костей и зубов животных. В том же шурфе встретился изумительной красоты янтарный диск с отверстием, костяная подвеска в виде головки глухаря и другое.
А при раскопках 1971 года глубочайшее впечатление оставили погребения. В площадь раскопа попали могилы: два отдельных детских погребения и двойное взрослое. В одном из детских погребений яма была сильно насыщена охрой – буровато-красной минеральной краской, которая символизировала для древних, как и янтарь, тепло, солнце, жизнь. Костяк лежал на спине. На грудной клетке нашли две подвески: янтарную каплевидную и яшмовую шлифованную, с двумя отверстиями для подвешивания. Эти два украшения, найденные в одной могиле, очень показательны для характеристики первобытного обмена: янтарь с Балтики, а погребение совершено на Верхней Волге.
Конечно, не надо думать, что некие «купеческие» экспедиции регулярно снаряжались на Куршскую косу и в Прикамье. Но то, что существовали довольно устойчивые, не прерывающиеся направления обмена «по цепочке» на очень далёкие расстояния, доказывается самим фактом такой находки. Тем более, что он не единичен.
А неподалёку, в нескольких метрах, проявилось погребение взрослого человека. Костяк расчистили, он оказался женским. На шее ожерелье из нескольких десятков зубов животных: в центре крупный медвежий клык, а по обе стороны от него располагались, по степени уменьшения в размерах, резцы бобра, лося, кабаньи клыки, зубы волка, лисицы...
Могила была слегка углублена в материк, но дно ямы под костями почему-то не проявились. Вскоре стала ясна причина. Ниже первого костяка, который пока не снимали, с разрывом не более 8 -10 см по вертикали, проявился ещё один. Вероятно, место захоронения этого человека не было строго отмечено, и другое погребение не нарушило нижнего. Ориентировка верхнего костяка отклонилась от более раннего примерно градусов на 30 по длинной оси. Погребённые лежали головами в противоположные стороны.
Нижнее погребение – мужчина едва ли не баскетбольного роста, притом, что средний рост людей в конце каменного века был несколько меньше, чем у наших современников. Инвентаря при покойнике никакого не имелось, за исключением одного атрибута – круглого булыжника, положенного сверху на шею. С постепенным истлеванием тканей он стал давить на лицевые кости, так что в итоге череп оказался свёрнутым набок.
Нередко какие-то ритуалы, действия, вещи меняют со временем свой знак на противоположный. Ситуация, с которой столкнулись археологи, пример тому. Охранительная функция камня-груза трансформировалась в историческое время в идею надгробного камня, обелиска, знака в память умершего, с надписью, нередко со скульптурным портретом.
1972 год стал временем сенсационного открытия, позволившего заполнить белое пятно более чем в тысячу лет между мезолитом и льяловскими древностями. Д.А. Крайнов и его сотрудники обнаружили в Верхнем Поволжье культуру раннего неолита, названную ими «верхневолжской». Следы верхневолжской культуры были найдены на территории трёх областей – Ярославской, Ивановской и Калининской (Тверской) (стоянка ЯЗЫК0В0-1).
Керамика в неолите
Керамику считают основным признаком неолита. Возникла она во многих местах одновременно, но не исключены заимствования. Например, на крайний Север керамическая посуда проникла с юга.
Доисторические гончары получали керамическую массу путём размельчения лессовых глин и супесей, в которые они добавляли отощающие и органические примеси – песок, дроблёный камень, слюду, толчёные раковины, траву, солому, мякину. Это делалось для того, чтобы сосуды были более крепкими и во время сушки и обжига сохраняли форму и не трескались. После тщательной замески, когда смесь обретала пластичность, стенки сосуда либо вытягивали из шарообразного куска, либо делали их из валиков, наложенных друг на друга. Из приготовленного глиняного теста раскатывали длинную ленту, клали её спирально виток на виток по форме будущего горшка, затем заглаживали, просушивали на воздухе и обжигали. Несмотря на примитивность изготовления, сосуды иногда имели тонкие стенки и относительную симметричность.
После завершения формовки сосуда доисторические гончары разглаживали его поверхность, полировали либо, наоборот, делали шершавой и снабжали орнаментальными украшениями – оттисками ногтей, процарапанными линиями, углублениями, отпечатками шнура, различных деревянных и костяных штампов, то есть отделывали в соответствии с тогдашними представлениями о красоте, практичности и удобстве.
Сосуды орнаментировали чаще всего штампом, наколами или узором, который прочерчивался палочкой по сырой глине. Считается, что комбинации, казалось бы, самых произвольных узоров отражали символику, утвердившуюся в племени. Поэтому однотипность орнамента керамики служит путеводной нитью для определения неолитической культуры, вероятно, племени, а также для установления генетического родства иногда удалённых друг от друга племён.
Потом наступал черёд сушки на воздухе, потому что влажные сосуды потрескались бы при обжиге. Во время сушки надо убрать лишнюю влагу, в противном случае сосуды при обжиге повредятся. Сушка должна происходить постепенно, примерно в течение недели в каком-нибудь затемнённом месте.
Последней операцией в производственном цикле доисторической керамики был обжиг, влиявший на качество изделий: стабильность формы, цвет, малую проницаемость стенок. Для обжига требовалась высокая температура, не менее 600°С, в идеальном случае – 900°С. Она создавалась в гончарных печках или в штабелях и на открытых кострах.
Сотни миллионов дошедших до нас обожжённых черепков и десятки миллионов ценных горшков убеждают в том, что доисторические производители не считали обжиг какой-то исключительной и трудной операцией.
Пища готовилась на кострах, однако горшок с плоским дном на костре неустойчив. Поэтому форма горшков была часто полуяйцевидной, остродонной. Остродонные сосуды было удобнее ставить между камнями или же в небольшой ямке, вокруг которой разводили костёр. Часто, хотя и не всегда, такие сосуды свидетельствуют о некоторой подвижности населения.
Проект «Прыжок в прошлое»
Поход 2006 года к месту Языковской стоянки имел не только туристические, но и научные цели. Предполагалось, что ребята выполнят работу первобытных гончаров. В эксперименте участвовали не только ученики и учителя, но и сотрудник Кашинского краеведческого музея Наталья Анатольевна Оханова.
Бывшим школьникам сейчас по 33 - 34 года, они хорошо помнят, как происходил «Прыжок в прошлое».
Перед походом изучили литературу по экспериментальной археологии. Составили план действий, «технологическую карту» изготовления глиняных сосудов.
Вот что рассказал Анатолий Копытенков: «Для начала, вместе с Татьяной Михайловной Голубевой, подобрали необходимую литературу, в которой учёные и искусствоведы описывают примерные типы сосудов из неолитического периода развития. Так мы сумели отобрать несколько вариантов, которые смогли бы изготовить в полевых условиях, не имея практики в этом деле. Большим подспорьем было то, что в найденных материалах подробно расписывались плюсы и минусы, а также варианты выполнения сушки глины на открытом огне и в земляной яме. Решили остановиться на варианте с земляной ямой как более надёжном способе, хоть и требующем больших усилий».
Прибыв на место, сначала занялись устройством лагеря. Для некоторых именно этот момент оказался самым ярким. Юлия Охлопкова так пишет об этом: «Палатка! Тот ещё ребус: выбрать место, надежно установить... Для меня это был первый опыт от установки до ночлега. Хорошо, когда в команде знатоки! А команда тогда собралась совершенно замечательная – вовлечённая, любознательная, позитивная».
Затем нашли место стоянки первобытных людей. Так как она находится за речкой Яхромой, туда пришлось проложить небольшой мостик. Там, как и полагается по требованиям экспериментальной археологии, накопали глину и больше часа растирали её руками. Затем приготовили глиняное тесто, добавив в глину мелко нарезанную траву. Правда, для нарезки пользовались острыми металлическими ножами, которых у жителей Языковской стоянки, конечно же, не было.
Тесто вымешивали ногами в специально выкопанной яме. Теперь можно было приступить к лепке сосудов. Это делалось двумя способами: вытягиванием и способом налепа.
Об этом вспоминает Мария Волкова, ныне учитель истории: «Надо было найти глину, правильно её замесить, чтобы она была не жидкая, скатать в длинную «колбаску», расплющить наподобие ленты, вылепить донышко и, используя глиняную ленту, наматывая виток за витком, сформировать стенки горшка».
Большие сосуды, как у первобытных людей, слепить не удалось, они разваливались. Поэтому ограничились небольшими размерами. Анатолий Копытенков признаётся: «Не имея опыта в изготовлении глиняных сосудов, долго не могли придать им ровный вид. Но в конце концов сумели отобрать несколько наиболее крепких образцов».
Далее по технологии требовалось высушить подготовленные и украшенные сосуды для обжига. Но времени было мало, поэтому сосуды сохли только одну ночь.
Наиболее подробно об этом рассказал Анатолий Копытенков: «Яму мы подготовили на месте небольшого холмика, который срыли с одной стороны, чтобы с трёх других были земляные стенки, поглощающие лишний жар. Правильнее было бы заготовить древесину заранее, чтобы она успела высохнуть и давала ровный жар. Но у нас не было такой возможности, поэтому вниз положили сырые ветки и напиленные стволы тонких деревьев. Четвёртую стенку сделали из более тонких поленьев с отверстием для тяги воздуха. Сверху толстым слоем положили тонкие сухие и сырые веточки и подожгли. Скорее всего, подкладывали ещё горючего материала, так как не были уверены, нужная ли температура в горне. Сколько по времени занял процесс – не помню [6 часов].
Когда всё прогорело и остыло, мы разгребли золу и извлекли на свет наши сосуды. Вроде бы один крупный треснул, остальные хорошо высохли. Аккуратно очистили их от пепла и, упаковав, забрали с собой».
Два сосуда, изготовленные во время эксперимента, хранятся, как уже было сказано, в нашем школьном музее, в экспозиции рядом с набором осколков керамики Языковской стоянки. Из остальных уцелел лишь один, у Виктории Ивановой (Хандриловой). Но об эксперименте помнят все из тех, кого нам удалось отыскать и расспросить!
Меня давно привлекает археология. Проведённое исследование ещё больше укрепило этот интерес. Было бы неплохо возобновить походы на Языковскую стоянку. Наверняка и другим ребятам захочется больше узнать о том, чем занимается эта наука, как археологи помогают изучать историю и восстанавливать картины далёкого прошлого.
Варвара ЖЕМЧУЖКИНА,
ученица средней школы №3.
Руководитель работы Т.М. Голубева,
педагог дополнительного образования средней школы №3.
«Кашинская газета» от 13 июня 2025 г.