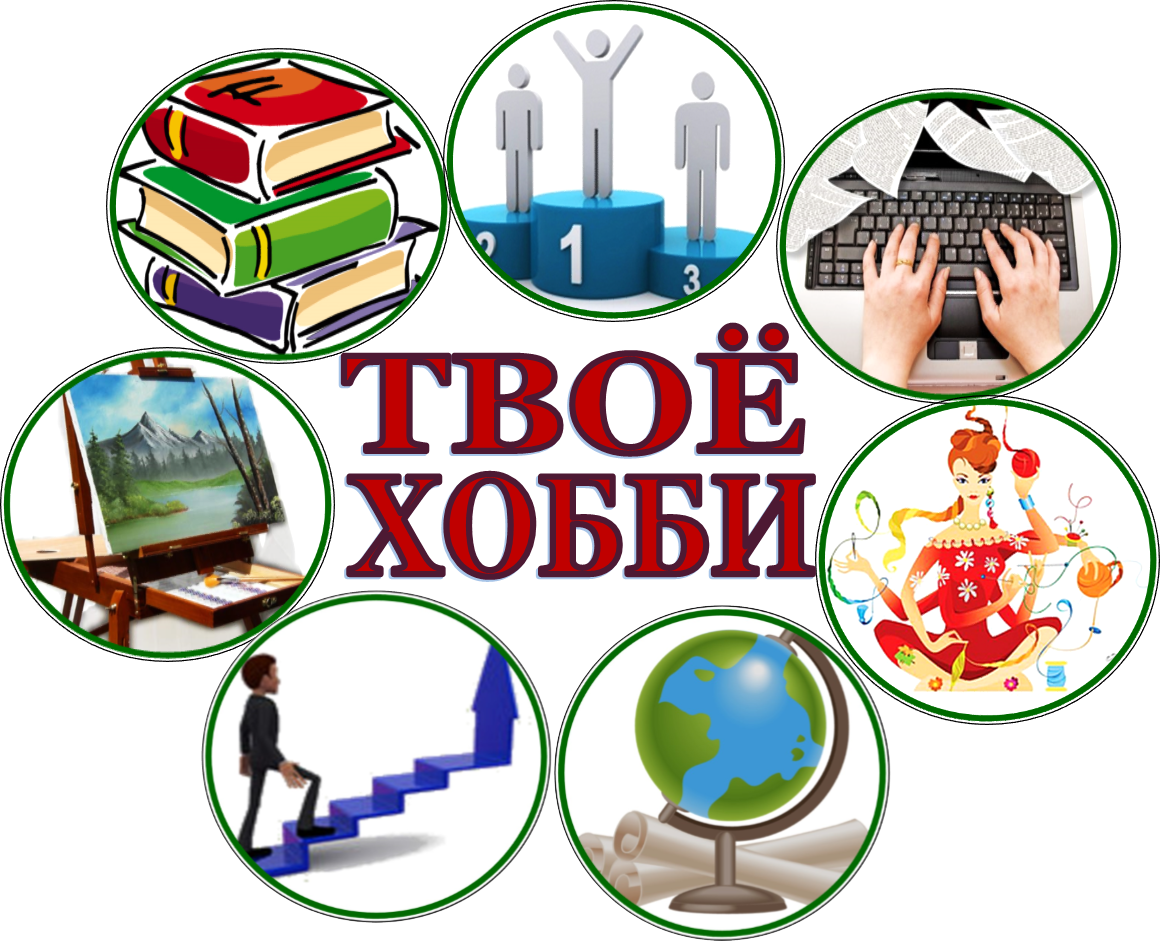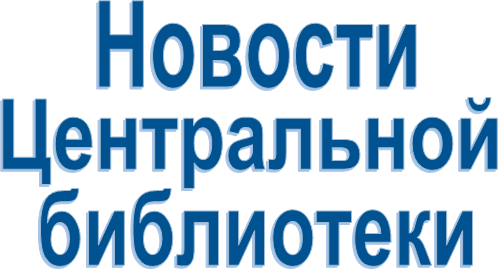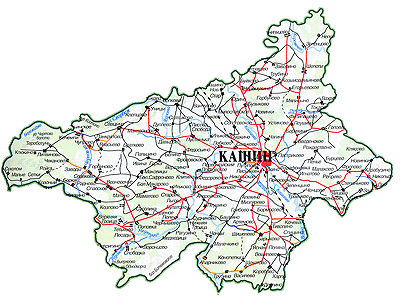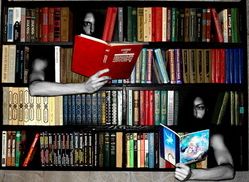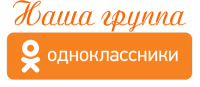Екатерина Филипповна Татаринова (29 августа 1783 – 12 июля 1856) –
русская религиозная деятельница 19 века, организатор общества «духовных христиан»
в аристократической среде Санкт-Петербурга.

Тайная узница кашинского монастыря
Шел 1837 год. В один из тихих майских вечеров к белокаменным воротам Кашинского Сретенского женского монастыря тихо подкатил экипаж, по виду которого можно было определить, что путь ему пришлось преодолеть долгий и трудный. Со скрипом распахнулись монастырские ворота, и в сопровождении жандармского прапорщика Михайлова в одну из келий была препровождена женщина уже немолодых лет, имя которой еще вчера было хорошо известно в самых высших кругах светского общества. Отныне, более чем на десять лет, она стала тайной узницей монастыря. Это была знаменитая некогда Екатерина Татаринова – основательница и руководительница «духовного союза» в царствование императора Александра I.
Долгим и непростым был ее путь, приведший в конечном итоге в монастырские застенки. Получив образование в Смольном институте, она после смерти мужа поселяется в Петербурге и, ища, как многие другие дамы того времени, «царствия божьего», входит в близкие сношения с хлыстами (секта духовных христиан, возникла в России в XVII веке; считают возможным прямое общение со «святым духом», воплощение бога в праведных сектантах – «христах», «богородицах»; на радениях доводят себя до религиозного экстаза) и скопцами (религиозная секта; проповедовала «спасение души» в борьбе с плотью путем оскопления мужчин и женщип, отказа от мирской жизни). Однако Татаринова не приняла ни догматического, ни нравственного учения скопцов и хлыстов и с 181? года начинает свою сектантскую деятельность. Ближайшими соратниками и членами кружка становятся ее мать. брат, капитан Буксгевден, академик и известный живописец В.Л. Боровиковский. Потом к секте примкнуло еще около 40 человек. Некоторые из них занимали весьма солидные посты в обществе: генерал Е. Головин, князья Енгалычев. Лабзин, министр народного просвещения и духовных дел А.Н. Голицын. Постоянными членами духовного союза были вице-президент российского библейского общества Р.А. Кошелев, директор департамента народного просвещения, секретарь библейского комитета В, М. Попов и другие.
Собрания секты открывались, как правило, чтением священных книг, потом пелись песни, положенные большей частью на простонародные напевы. По праздничным дням проходили радения – «святое плясание, движение в некоем, как бы духовном вальсе», производившиеся как у скопцов, в особых костюмах, и кончавшиеся тем, что на кого-нибудь из кружившихся «накатывал» дух святой и он начинал пророчествовать. Чаще всех пророчествовала сама Татаринова, которая уверяла, что чувствует в себе дар пророчества в самую минуту своего присоединения. Пророчества эти, произносившиеся необыкновенно быстро и состоявшие из разных бессвязных речей, под склад народных прибауток, с рифмами, относились частью к ближайшей судьбе всего круга, частью – к судьбе отдельных его членов. Кружение и пророчества составляли самую заметную особенность секты и были причиной того, что членов ее часто называли русскими квакерами. Кроме музыки, секте служили и другие искусства: живопись – в украшавших ее молельную картинах Боровиковского, хореографическое искусство – в радельных плясках.
О собраниях секты знали императрица Елизавета Алексеевна, благоволившая к Татариновой и сам государь-император, давший ей однажды аудиенцию и долго с ней беседовавший. Александр I говорил, что сердце его «пламенеет любовью к Спасителю всегда, когда он читает в письмах... об обществе госпожи Татариновой...» Собрания в квартире Татариновой в Михайловском дворце свободно продолжались до 1822 года, когда в этом дворце было помещено инженерное училище, и в то же время запрещены тайные общества.
Однако с выездом из Михайловского замка Татаринова не прекратила своих собраний и устраивала их на новой квартире, а в 1825 году из опасений перед полицией, преследовавшей собрания тайных обществ, выселилась за город и недалеко от Московской заставы основала нечто вроде сектантской колонии, где радений ее совершались целых 12 лет.
В 1837 году по распоряжению правительства колония эта была закрыта и все члены кружка, до решения дальнейшей их участи, арестованы в своих комнатах.
Секретный раскольничий комитет, в который было передано дело Татариновой, нашел, что «она и ее последователи составили тайный союз и установили свой образ моления, соединенный со страстными и неприличными обрядами, противными как правилам и духу православной церкви, так и государственным узаконениям». На этом основании дальнейшее существование столь вредного общества должно быть прекращено, главных сектантов комитет полагал разослать по монастырям, а отдельных отдать под надзор полиции. Это мнение комитета было утверждено императором Николаем I.
13 мая 1837 года обер-прокурор Святейшего Синода граф Н.А. Протасов уведомил преосвященного Тверского Григория (архиепископа Тверского и Кашинского), что «Государь Император Высочайше повелел соизволить статскую советницу Татаринову, как изобличенную в учреждении фанатической секты, отправить в Кашинский женский монастырь под строгий надзор игуменьи и казначеи того монастыря, поручив основательному духовному лицу делать ей увещевания к оставлению заблуждений и к принесению покаяния...» Так начались для Татариновой долгие годы монастырского заключения.
В монастыре ей отвели одну из комнат размером 8 на 5 аршин (5,7 на 3,5 метра). Отлучек из монастыря не дозволяли, разрешалась лишь по ее желанию прогулка по монастырю и монастырскому саду. Всякие сношения с посторонними лицами воспретили. По истечении
9 лет заключения Татариновой в 1846 г. дозволили свидание с проживавшим в Кашине братом ее, отставным инженером-капитаном П. Буксгевденом При этом свидания происходили в строго установленные часы от обедни до вечерни в присутствии какой-либо из монахинь, причем приносить письма, записки. напитки еду категорически запрещалось.
Татариновой было воспрещено также иметь какую-либо переписку с посторонними лицами. Ей дозволялось писать о своих нуждах только начальству, причем все письма в обязательном порядке предварительно прочитывались игуменьей. Время Татаринова проводила в чтении религиозных книг и посещении богослужений. Частые припадки болезни (ей было в ту пору свыше 60 лет) и полное разобщение с жизнью и людьми сильно угнетали заключенную. Даже визиты кашинского уездного врача А.А. Ауэрбаха (отца известного горного инженера), лечившего до 1846 года Татаринову, происходили при личном присутствии игуменьи.
Пищу и одежду Татаринова имела собственную, в том и в другом соблюдала монашескую строгость. Деньги присылались ей из Петербурга через обер-прокурора Св. Синода от князя Ё. Енгалычева, также ранее состоявшего в «духовном союзе».
Во исполнение предписания обер-прокурора монастырскому священнику Василию Федорову, а после его смерти Ивану Приселкову приказано было посещать Татаринову по нескольку раз в неделю и посредством разговоров основательно узнать ее религиозное заблуждение, а также всеми способами располагать ее к принесению покаяния. Об успехе своих увещеваний монастырский священник должен был доносить преосвященному Григорию, а тот через каждые три месяца – обер-прокурору для доклада государю.
Однако на все увещевания представителей духовной власти и даже самого преосвященного Григория Татаринова отвечала, что она не решается признать свои «религиозные занятия» заблуждением.
Между тем, побуждаемая слабостью своего здоровья, Татаринова неоднократно в 1843 и 1844 годах подавала через настоятельницу монастыря игуменью Назарету (в мире Ольга Давыдова) и преосвященного Григория прошения на Высочайшее имя, обер-прокурору Св. Синода и шефу жандармов графу А.X. Бенкендорфу об освобождении ее из монастыря. Однако все ее просьбы были отклонены. И лишь в 1847 году, когда Татаринова дала письменное подтверждение о своем повиновении православной церкви и признании своих заблуждений, государь-император соизволил разрешить ей жительствовать в Кашине вне монастыря, но с учреждением над нею секретного полицейского надзора.
15 июля она выбыла из монастыря и поселилась в доме учителя уездного училища Н.И. Освальда.
Нельзя не упомянуть любопытного факта, что все годы заточения Татариновой в монастыре горькую ее участь добровольно разделила и ее воспитанница Анна Васильева, пробывшая с последней «кашинскую ссылку» от начала до конца. В июле 1848 года Татариновой было разрешено поселиться в Москве, где она и умерла в 1856 году в возрасте 73 лет на руках беспредельно любившей ее воспитанницы А. Васильевой.
А. Сухарев.
По ленинскому пути. - 1989. - 26 нояб.